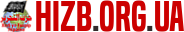Когда речь заходит о господстве, на ум сразу приходят такие понятия, как границы, территории и армии. Однако в эпоху цифровых технологий и цифровой трансформации возник новый вид господства — господство в цифровой сфере. Это способность государств без внешнего диктата самостоятельно определять, как строить свою цифровую инфраструктуру, где хранить данные, какие стандарты применять и как защищать свою экономику и граждан от невидимых угроз. Тот, кто владеет этим, не только оберегает своё киберпространство, но и получает политическое и экономическое влияние, которое выходит за пределы своей территории.
История цифрового господства начинается с, казалось бы, сухих и технических вещей, таких как: подводные кабели, протянутые на тысячи километров, дата-центры, охлаждаемые водами морей и рек, системы доменных имён (DNS), переводящие название сайта в его цифровой IP-адрес.
На основе всего этого работают облачные хранилища, гигантские платформы, магазины приложений, модели искусственного интеллекта.
Также между всем этим существуют и очень узкие места, критические точки, подобные горлышку бутылки, а именно: инструменты проектирования микрочипов, без которых невозможно разработать полупроводниковые пластины; передовое оборудование для их производства, которое продаётся лишь ограниченным числом стран; технические стандарты, авторы которых в конечном итоге завоёвывают рынок.
Именно в этом и заключается суть господства в цифровых технологиях — являешься ли ты создателем стандартов или же просто их потребителем.
На этой арене выступают три главные силы, каждая из которых действует по-своему и располагает определёнными собственными возможностями:
Соединённые Штаты Америки выступают в роли архитектора глобального цифрового порядка. Они обладают мощнейшими позициями в облачных технологиях, цифровых платформах, программном обеспечении и искусственном интеллекте. США также удерживают контроль над наиболее распространёнными инструментами проектирования микрочипов. Их влияние простирается не только на технологии, но и на законодательную сферу, они имеют возможность получать доступ к данным своих компаний даже за пределами страны благодаря международным договорам и правовым механизмам, они используют альянсы и соглашения, толкая множество стран к принятию их стандартов. В сфере же безопасности Америка обладает разведывательными мощностями и глубокой партнёрской сетью, которая обеспечивает ей постоянный контроль киберпространства.
Китай, в свою очередь, выстраивает собственную модель, опираясь на гигантский внутренний рынок, широкомасштабное производство, «Цифровой шёлковый путь», простирающийся за пределы страны, настойчивые попытки импортозамещения в области микрочипов, ИИ и платёжных систем. Китай всё ещё сталкивается с пробелами и вызовами, особенно в производстве передовых микросхем. Однако он стремится преодолеть эти свои слабые места с помощью государственных инвестиций, масштабного финансового вливания, выстраивания полной и устойчивой цепочки поставок, которая с каждым годом становится всё более слаженной и самодостаточной.
Европейский союз, со своей стороны, обладает иными инструментами влияния, а именно: регулированием и стандартами. Он задаёт правила в таких областях, как защита персональных данных, контроль над цифровыми платформами, кибербезопасность, цифровая идентификация. В этих сферах именно европейцы формулируют «правила игры». Однако главная проблема Европы не в законодательстве, а в промышленности, перед ними стоит вопрос: как превратить свою нормативную силу в полноценные глобальные платформы и продукты, способные конкурировать с цифровыми гигантами?
Есть также новые игроки, стремительно набирающие вес:
Индия, которая демонстрирует модель цифровизации государства путём внедрения электронной идентификации и предоставления государственных услуг через онлайн-платформы, охватывающие сотни миллионов человек. Индия также проявляет всё больший интерес к разработке микрочипов и открытому программному обеспечению.
Корея, Тайвань и Япония занимают ключевые звенья в цепочках поставок — от сырья до оборудования.
Россия, несмотря на экономические ограничения, обладает серьёзным наступательным потенциалом в киберпространстве, который учитывается в стратегиях сдерживания.
Что касается кибербезопасности, её важность особенно велика в современном мире, где экономика основана на непрерывности процессов. А они, в свою очередь, полностью зависят от цифровизации, как в производстве так и в потреблении. Любая кибератака на электросети, крупный банк или телекоммуникационного провайдера способна парализовать целый город.
Так, например, США подверглись кибератаке со стороны России, которая затронула даже оборонные сети, включая системы управления ядерным оружием. Контроль над ситуацией был восстановлен только после встречи между президентом Путиным и тогдашним президентом США Джо Байденом.
Здесь и проявляется уравнение суверенности, является ли государство выстраивающим многоуровневую систему защиты, контролирует ли свои цепочки поставок и производства, закрывает ли оперативно уязвимости, формируя этим доверие у граждан и финансовых рынков. Ведь доверие — это политический и экономический капитал, не менее ценный, чем нефть и газ.
Кто сегодня обладает наибольшей мощью в сфере цифровых технологий?
- В технологическом плане в таких областях, как облачные технологии, онлайн-платформы, программное обеспечение, искусственный интеллект и в инструментах проектирования микросхем перевес сохраняется за США. Китай обладает огромным внутренним производственным потенциалом и быстро продвигается в сфере разработки приложений, активно стремясь преодолеть барьер в области передового оборудования. Европа сильна в регулировании, стандартах, отдельных звеньях в производстве оборудования и промышленном инновационном потенциале, однако всё ещё ищет возможность создания платформ, способных конкурировать с мировыми гигантами.
- В финансовом плане Америка по-прежнему остаётся центром финансовых инвестиций в стартапы. Китай наращивает силу через государственное финансирование в стратегических секторах. Европа сохраняет свои позиции в этом с помощью целенаправленной промышленной политики.
- В политическом плане США опираются на широкую сеть союзов и альянсов, которая способствует глобальному принятию их стандартов. Китай расширяет своё влияние через проекты цифровой инфраструктуры и внешнее финансирование. ЕС использует так называемую нормативную силу, заставляя международные корпорации подстраиваться под его правила на собственном рынке.
Что касается государств среднего уровня, то такой расклад вовсе не означает, что им остаётся только капитулировать. Суверенитет в цифровой сфере не опирается на логику «либо всё, либо ничего», а опирается на пошаговый процесс построения, где каждая ступень имеет значение. Государство может само определить, что именно в первую очередь развивать на своей территории. Для начала это может быть разработкой электронной идентификации, построение суверенных облачных хранилищ для чувствительных секторов и построение дата-центров внутри страны, а также закупка за рубежом того, что государство сейчас не может произвести само.
Можно также на пути к цифровой суверенности для начала диверсифицировать поставки микрочипов, облачных решений и кабельной инфраструктуры, принимать сбалансированные законы о защите данных и трансграничной передаче информации, развивать человеческий потенциал, который будет заниматься кибербезопастностью и развивать искусственный интеллект. И самое важное — это активное участие в органах, устанавливающих технические стандарты, ведь кто пишет стандарты сегодня, тот продаёт продукт завтра.
А есть государства, особенно в Африке, Латинской Америке и исламском мире, которые по-прежнему остаются просто потребителями продукции США, Европы, Китая, Японии и Кореи. Они лишь в незначительной степени участвуют в создании программного обеспечения, при этом даже эти продукты в своей основе зависят от индустриальных держав, контролирующих производство устройств, операционных систем и систем хранения данных.
И хотя речь здесь вроде бы о технологиях, на деле же это вопрос суверенности, ведь это такие вопросы, как: кому принадлежит право принятия решений в отношении данных? Кто контролирует ваши стратегически важные платформы? Способны ли вы обеспечивать свою кибербезопасность без технического шантажа со стороны третьих лиц?
В мире, где торговля, политика и услуги управляются через электронные сети, ответы на эти вопросы становятся мерилом положения и влияния государств. Цифровая суверенность — это не просто лозунг и не роскошь, а государственная стратегия в продуманных инвестициях, в построении правильных альянсов, в разработке чёткого законодательства и наращивание возможностей в цифровых технологиях, которые не рухнут при первой же атаке.
Отсюда следует, что необходимо всерьёз задуматься об этой стратегической сфере, особенно в преддверии скорого появления государства Халифат, если на то будет воля Аллаха, который будет обязан как с точки зрения религиозного долга, так и с точки зрения рациональной политики обладать абсолютным суверенитетом над всеми своими стратегически важными секторами. Так вот вопрос: обеспечили ли мы необходимые предпосылки, чтобы Халифат после своего установления мог взять полный контроль над своей цифровой сферой, являющейся неотъемлемой частью полного главенства над своим государством, что является, в свою очередь, прямым повелением Аллаха?
Ведь Всевышний сказал:
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
«Аллах никогда не откроет неверным пути (к власти) над верующими» (4:141).